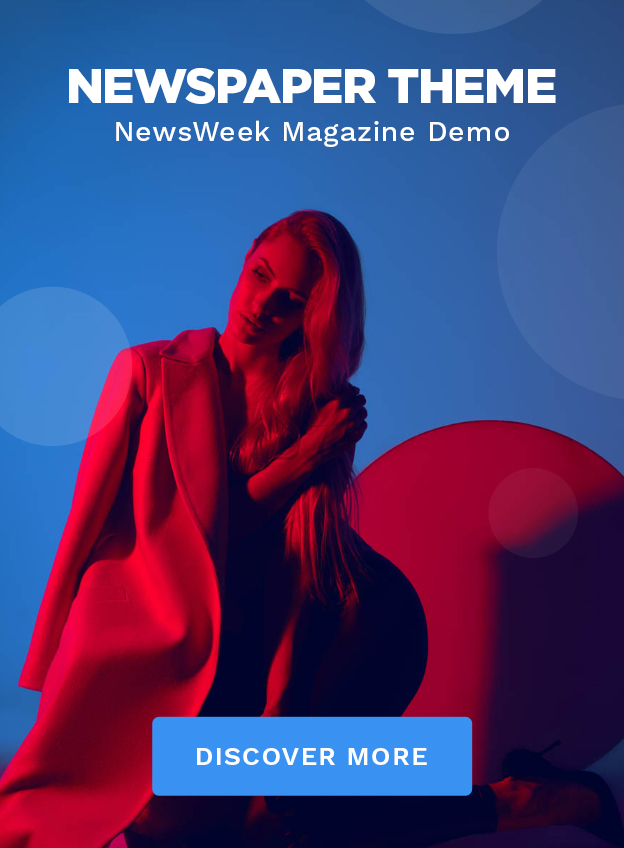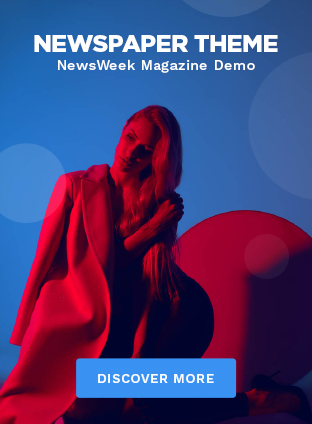Сегодня, 5 мая, 110 лет со дня рождения советского таджикского поэта, одного из зачинателей таджикской детской литературы, писателя, общественного и государственного деятеля Мирсаида Миршакара.
И это воспоминания о нем его дочери Зульфии Миршакар.
Огромная комната с выходом на балкон во двор дома, рядом с дверью — моя детская кроватка с бортиками из деревянных прутьев. И дальше по периметру комнаты: у следующей стены – родительская кровать, в изголовье — яркий ковер на всю стену, у противоположной стены стоит добротный шифоньер и рядом с ним удачно разместился большой старинный восточный сундук.
В следующей стене дверь в другой, неизвестный пока мне, совсем маленькому ребенку, мир, откуда входят и выходят взрослые и еще маленькая девочка, видимо, моя сестра Заррина.
Мой мир тогда — это мохнатый кот на синем шелковом коврике над моей кроваткой и яркие ковры на стенах родительской спальни.
 ИЗОБРАЖЕНИЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
С Котом я в своих видениях разговариваю на своем агушном языке, делюсь впечатлениями, гуляю по цветущей сказочной земле, покрытой фантастическими растениями из орнамента висящих здесь настенных ковров.
Большой винтажный, инкрустированный мельхиором и каменной эмалью сундук из родительской спальни в моих видениях служит нам с Котом роскошным царским дворцом, где живут волшебные пери, и где мы с Котом часто укрываемся от темных сил.
Иногда лучи восходящего раннего солнца проникают в комнату. Я тянусь и пытаюсь поймать самый близкий ко мне золотистый отблеск светила. А солнышко тем временем стремительно набирает силы и неспешно движется к своему зениту. В этой неспешности не упустить бы свой шанс: успеть схватить и не выпустить этот тоненький лучик!
Есть! Ура! Схватила! Я резко дергаю свою добычу за хвост, комната тут же наполняется мелкой россыпью светящихся золотых лучиков. И тут происходит нечто невероятное: мое воображение уносит меня далеко в иные миры, и вместе с моим Котом мы входим в раскрывшиеся белые ворота в преображенном сказочном своде родительской спальни.
.jpeg) ИЗОБРАЖЕНИЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Воспоминания из детства
О, эти мои младенческие путешествия в поднебесную! Они были самые – самые в моей жизни! Полеты в небе, прыжки и игры в пузатых серебристых облаках, легкие стремительные парения в небесной лазури – все это еще долго снилось мне во взрослой жизни. Эти сны помогали мне преодолевать разные жизненные вопросы, принимать жизнь легче, не утяжелять ее своими проблемами, относиться к ней, как к великому дару, радоваться каждому её мгновению.
 ИЗОБРАЖЕНИЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
А в ту пору, в моём младенчестве, я настолько была потрясена этими вылазками в небеса, что приучила себя просыпаться в одно и то же время, время восхода летнего солнца в нашем жарком южном городе, проснуться с тем, чтобы только успеть схватить за хвост уходящий луч!
А ведь все это было плодом моего бурного воображения, видимо, моя душа таким образом познавали этот мир.
Особое место в моих младенческих видениях и первого прикосновения к этому миру играла огромная фигура человека, часто появляющегося в этой комнате, переодевающегося, бережно поправляющего моё одеяльце, широко улыбающегося и что-то мне говорящего своем непонятном мне языке. Позже я поняла: это мой папа! Это наш папа!
В той нашей квартире на улице Ленина, ныне Рудаки, папа работал по ночам в дальней от спальни комнате – в своем кабинете. Дверь на балкон папиного кабинета всегда была распахнута. Через эту дверь кабинет папы наполнялся атмосферой жизни самого сердца нашего города- площади 800-летия Москвы с прилегающей к ней Театру оперы и балета и самым большим фонтаном в центре.
Маленький балкон кабинета висел над центральным входом в Гастроном №1, был с двух сторон превращен в цветущий садик: заложен по бокам дополнительными бетонными плитами, до бордюра засыпан землей, и в эти клумбы были высажены отборные сорта роз, запах которых облагораживал все пространство вокруг.
И так было на всех соседних балконах дома. Сажали, кто что хотел: сезонные цветы, елочки, а на 3 этаже рос даже огромный фикус. С площади наш дом смотрелся высоченным выставочным стендом флоры Таджикистана!
В теплые ночи папа писал свои творения именно в этом «садике». Шум с центральной улицы Ленина нисколько не смущал его, напротив, помогал ему в творчестве. Он чувствовал себя частью этой светлой, созданной им и его соратниками созидательной жизни.
Папа любил работать в наполненном звуками жизни пространстве: будь то звуки улицы, передачи городской радиоточки или популярной в те времена радиолы «Рекорд». Эта привычка папы передалась и мне. И любовь к Шашмакому, собственно, появилась именно потому, что папа часто работал под тихий ненавязчивый звук городской радиосети, где в полдень часами звучала эта классика народного вокального жанра.
Конечно, маленькому ребенку случалось часто «сделать» под себя. Особенно ночью. Тогда ни памперсов, ни специальных приспособлений для таких случаев не было, только клеёнка и много-много пеленок. Моя ранняя детская память сохранила именно эту папину возню со мной в ночи. Каким-то образом иногда в таких случаях наш увлеченный работой папа вдруг из своего дальнего кабинета оказывался здесь рядом, у моей кроватки, менял пеленки и снова укладывал меня спать. И так было со всеми моими братьями и сестрой. Помню очень ясно…
Помню не черты лица, и не внешность, помню прикосновение рук, теплых, родных, слегка дрожащих – наверное, очень волновался! И, самое главное, его запах! Запах папы! Этот запах, как и запах мамы, до сих пор иногда вдруг возникают в моей эмоциональной и образной памяти и дурманят!
Литературные вечера
Более поздние по времени воспоминания — я лежу в своей же кроватке, но уже у папы в его кабинете. Как моя кроватка там разместилась — трудно понять, потому что комната и без того была небольшая, и все свободные стены были заняты книжными стеллажами.
Мое переселение связано было, вероятно, с рождением третьего ребенка в семье — брата Афзала. Значит, мне было уже 3 годика. Ничего более из того, кабинетного, периода не сохранилось в памяти. Повернусь направо-упираюсь взглядом в книги, налево — папа за столом, весь в творческом процессе, слегка качает головой в ритм своего зарождающегося творения.
Но вскоре и оттуда я перееду, так как — помните, Заррина и Афзал, — папа очень много курил!?
.jpeg) ИЗОБРАЖЕНИЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Утром на его кабинетном столе стояла не горка, а гора окурков папирос «Беломорканал», а чаще «Казбек».
Ночью папа работал, а вечерами дом наполнялся шумом, смехом, пением песен, чтением стихов, рассказов. Это собирались поэты, композиторы, певцы, ученые, художники и просто друзья родителей.
Это было не праздное времяпровождение. Я бы эти вечера назвала литературно-художественным салоном, о которых прочла позже у Толстого в «Войне и мире». Здесь звучали новые стихи М. Турсунзаде, Б. Рахимзаде, А Дехоти, Халилу Халили, Файза Ахмада и многих поэтов разных стран в авторском исполнении. Звучали песни З. Шахиди, Я. Сабзанова, прекрасно помню стихи Лахути, которые прочитала жена поэта Цецилия – Бану.
Туфа Фазылова и Ханифа Мавлянова пели песни на стихи и музыку наших творцов. Впервые песня «Шугнанка» композитора Сулеймана Юдакова на папины стихи, посвященные маме, прозвучала у нас дома в исполнении Рены Галибовой.
В вышедшей в Нью-Йорке книге таджикского композитора Якуба Сабзанова «Жизнь в музыке» автор пишет: «Песня «Шугнанка» в исполнении народной артистки Таджикистана Р.Галибовой стала подлинно народной… Ее пели от Памира до Самарканда и Ташкента».
Помню, у нас в доме стояло пианино — немецкое, черное, величественное, с подсвечниками, оно меня уносило куда-то далеко, в прошлые столетия. Наверное, поэтому я так и не стала музыкантом, а моя сестра Заррина, композитор, более реально смотрящая на все, свои первые произведения сочинила именно на этом немецком трофейном пианино.
Мама подобрала несколько песен на нашем пианино и уже сама в две руки, под собственный аккомпанемент на этих вечерах по просьбе гостей (без музыкального образования!) исполняла «Шугнанку»
Эй, мохи шугнониям!
Лали Бадахшониям!
Эй, чон,
Эй, чонам,
Ба ту курбонам,
Ераки кухистонам! —
До сих пор звучит в моих ушах звонкий поющий голос мамы.
На одном их таких приемов папа прочитал стихи неизвестного автора и таким образом открыл двери не только Таджикистана, но и всей среднеазиатской читательской среде в удивительный мир замечательного пакистанского поэта Икбала.
«Это Миршакар открыл для нас великого пакистанского фарсоязычного поэта Икбала, который привлек его философской глубиной поэтической мысли, тревожной озабоченностью о судьбах человечества», — писал М. Асимов, президент АН Таджикистана (1965-1988гг).
Какие были славные времена! Сколько радости и веселья они вносили в нашу жизнь!
Детская память хорошо сохранила имена этих людей, потом они пройдут по жизни вместе, а мы, их дети, рядом, в одном кругу и общении, познавая жизнь.
Раньше я часто задавалась вопросом: мыслимо ли это, чтобы годовалый ребенок помнил что-то из такого далекого раннего детства, да еще и в таких подробностях! Я расспрашивала маму подробно о том времени: какая была их спальня в доме на Ленина, стояла ли кроватка, спала ли я в ней, а был ли сундук, а папа, он, действительно, нам менял одежду, пеленки и т.д.? Мама подтвердила: все так и было!
А мои родные тети Нодира и Гульгунча очень тепло, с любовью вспоминали о папе и особенно о его отношении к нам, его детям: Он вас очень любил, сам вас купал, сажал на горшки и убирал все за вами!
Папочка…как тебя хватало на все и на всех!
"Идти рядом с таким человеком – это дар судьбы"
Папа поздно женился. В 33 года. Женился на нашей маме, юной красавице горянке. Разница в возрасте родителей была в 17 лет.
Первая встреча моих родителей произошла в 1941 году в Москве в Дни культуры и искусства Таджикистана. Мама была солисткой Памирского детского ансамбля под руководством Народного артиста СССР Г. Гулямхайдарова.
 ИЗОБРАЖЕНИЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Высокая, стройная, красивая, с большими, излучающими свет, глазами, удивительно пластичная в танце и завораживающая в пении, она не могла не обратить на себя внимания окружающих, а тем более своего соплеменника, уже широко известного к тому времени поэта.
Мама как-то нам призналась, что все на Памире, особенно девушки, знали стихи Миршакара и даже кое-что читали наизусть и были втайне влюблены в него. Но одно дело стихи, а другое – вот он, сам поэт, рядом, во плоти.
Восторгу девушек не было предела! Но и он не обманул их ожидания. Зная прекрасно Москву еще со времен первого слета пионеров, папа знакомил юных памирок с достопримечательностями любимого города, водил их по московским улицам, площадям, рассказывал все, что знал о Москве, помогал делать покупки.
В 1944 году мама уже в составе ансамбля Хорогского ремесленного училища давала концерты по госпиталям, помогала поднять дух защитников отечества. И вновь произошла встреча папы с мамой. Связь между ними за эти годы не обрывалась: были письма, нечастые, чаще односторонние и больше в стихах. И это понятно: совсем юный возраст мамы, конечно же, отрезвлял пыл зрелого мужчины, признанного поэта. Но уже теперь папа не сомневался, вот она — его избранница!
.jpeg) ИЗОБРАЖЕНИЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
В этом же году он попросил руки нашей мамы у ее родителей, а осенью 1945 года, 1 сентября, сыграв в Хороге свадьбу, они на стареньком грузовике — мама в кабине с водителем, а папа в кузове — отправилась через Ош, Андижан и Ленинабад в Душанбе. Это их «свадебное» путешествие — отдельная тема для рассказа. Я бережно храню и ношу свадебный платок мамы, который ей тогда подарил папа…
Папа и мама долгие годы жили в доме писателей на улице Орджоникидзе. Здесь же жили семьи М.Турсунзаде, Б. Рахимзаде Г. Сулеймановой, С. Гани, Ф. Ниязи, Аминзаде, Г. Мирзо, композитора З. Шахиди. «В этом доме мы пережили много счастливых мгновений. Здесь Мирсаид получил Сталинскую премию, здесь у нас родились наши любимые дочки. Миршакар был так счастлив, что не находил себе места», — вспоминает мама в одном из своих писем.
Ум мамы подсказывал ей: идти рядом с таким человеком – это дар судьбы и надо достойно его принять. Открытая для всего нового она, как лакмусовая бумажка, впитывала все то, что ей помогало войти в тот безгранично интересный и непростой мир, в котором жил он, ее муж.
Первые годы папа для мамы был скорее отцом-наставником. Он учил ее всему: нехитрым житейским премудростям, кулинарным секретам, давал уроки этикета и т.д. Но с годами ученица так преуспела в этих науках, что сама стала давать уроки своему гуру! Из двух возможных путей по жизни – карьера или семья — мама выбрала второй, за что мы, ее дети, ей низко кланяемся! Все то лучшее, что есть в нас, в ее детях — это ее заслуга.
Мама могла бы стать великой певицей, ее голос до последних дней не утратил сочности звучания; врожденный такт и терпение позволили бы ей стать прекрасным педагогом; она могла бы стать грамотным литературоведом: ее знаниям литературы, классической и современной, западной, русской и таджикской позавидовал бы любой специалист в этой области. Но мама себя полностью посвятила семье: нам, своим детям и папе.
Жить с творческой личностью непросто, но, если ты еще сможешь идти с ним рядом, наравне, смотреть с ним в одну сторону, понимать его, в его молчании слышать голос, а в гневе обуздать порыв – вот поистине подвиг достойной подруги поэта, моей мамы Гульчехрамо!
Конечно, жизнь – это сложное «производство», и здесь бывают свои сбои, но в целом, семейная жизнь моих родителей – это вечный пример для нас, их детей.
Таинственное письмо
Недавно я разбирала вещи в шифоньере и нашла значительную стопку писем. Те, что сохранились с давних времен, когда была доступна только эта форма общения и связи. Жаль, что не все сохранила!
Здесь, в основном, письма Валеры из Москвы и из армии, письмо дяди Мехрубона из Кабула, когда он там работал, письма Заррины с разных мест и времен — из Москвы времен учебы в консерватории, с Крыма на отдыхе; мамины письма мне в Москву времен моей учебы и недавние, когда мы уехали из Душанбе в Россию, от моих еще маленьких дочек и разных подруг. Самое ценное среди них — письма родителей и особенно дороги письма от папы и среди них поздравление с моей защитой диссертации в Москве, переданное мне с мамой и письмо из далекого 1958 года.
Это письмо написано на маленьком сложенном вдвое листе специальной для писем бумаги формата А6 с картинкой в верхнем левом углу — как в театре теней с двумя девочками под распахнутым зонтом:
«Моя маленькая Зульфия! (подчеркнуто)
Как ты живешь, как с учебой? Какие отметки у тебя по музыке? Пишешь ли стихи?
Ну, Зульфи! Не обижай маму и братишку!
Желаю тебе здоровья!
Твой папа
18 фев.1958г»
Судя по дате, я — ученица 3 класса, занимаюсь музыкой (я ее вскоре бросила, мне не нравилась моя учительница Наталья Васильевна, то «сходи за хлебом», то «помоги» : у нее только родился ребенок), пишу стихи!, здоровье мое — видимо, папа имеет в виду мои частые головные боли, обижаю маму и братишку — Афзала!?
Конечно, Афзала, с Акмалом мы еще не были знакомы, он родится позже, в 1961 году. А с мамой, это — да, с мамой я всегда спорила, видимо, в силу одинаковости характеров, а вот про братишку не помню, чтобы обижала. Мы его все — и домашние, и дворовые, и соседи — все любили очень!
Заррину я не трогала, напротив, защищала! Помню, как-то пришла к нам домой с поликлиники медсестра, сделать укол Заррине в связи с частыми ангинами, я спряталась под столом и в самый напряженный момент, когда игла вонзилась в мягкое тело моей сестры, я укусила медсестру за икру ноги! Так же я обошлась с ее учителем музыки: я его, молодого, прыщавого и с под корень обгрызенными ногтями, ненавидела за то, что он заставлял ее по несколько раз проигрывать гаммы и постоянно бил по её хрупким детским пальчикам! Да и во дворе всем попадало от меня из-за моей сестры. Мои укусы пугали всех!
Но вернемся к письму.
Столько лет я была уверена, что это письмо папы из Индии, а тут вдруг заметила, что никак не сходятся даты в письме и в его воспоминаниях.
«В конце 1956 года я работал в Нью-Дели в качестве члена Международного секретариата по подготовке и проведению Конференции азиатских писателей», — пишет папа в воспоминаниях в книге «Айёми чавони» («Юность моя») И дальше о разных интересных встречах и творческих дискуссиях в самых неожиданных местах:
«В свободное время мы общались с писателями Индии, Китая, Японии, Пакистана и других стран, прогуливаясь по красивым улицам и скверам Нью-Дели, вдоль реки Чамна, говорили о той литературе, которая нам ближе всего».
И так несколько страниц, но ни одной строчки о том, что там произошло с ним, и почему мы увидели его только в начале 1958 года.
.jpeg) ИЗОБРАЖЕНИЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Когда несколько лет назад я подумывала написать о родителях книгу, я расспрашивала маму о разных вехах их совместной жизни. И о том несчастном случае в Индии, конечно, тоже спросила. Казалось, все было ясно и понятно: папа выпил не то лекарство и упал без сознания. Но я не могла предположить, что наша разлука с папой после того происшествия могла продлиться на долгие времена, а уточнить подробности у мамы не успела…
Как много осталось в тайниках ушедших близких нам людей! И почему наши вопросы к родителям возникают с таким безвозвратным опозданием?! Мама, к сожалению, не дожила до выхода моей книги, но кое-что о том времени она успела мне рассказать.
«Там, в Индии, у вашего отца в результате приема неправильного лекарства произошла потеря сознания, и он был срочно госпитализирован. Мне об этом не сообщили, а он там один, без семьи пролежал несколько месяцев в одном из госпиталей Дели. От него исправно приходили письма и детям вместе с посылками со сказочными шелковыми и кашемировыми шарфами и сари, которыми мы любовались только в индийских фильмах, и разными национальными игрушками и сладостям. В письмах ни слова о произошедшем! Видимо, таким образом посольство СССР в Индии пыталось сохранить наше семейное счастье».
Обрывки памяти
Поговорив с родными — Зарриной, Афзалом и Акмалом, я поняла кое-что. После потери сознания у папы произошла частичная амнезия, он утратил дар речи и память. Возможно, произошел осложненный травмой инсульт. Инсульт ли? Или что-то другое? Теперь это никто не подтвердит.
Помню, он как-то вспоминал страшные боли, когда ему там, в Дели, старыми дедовскими методами делали люмбальную пункцию — это метод исследования спинномозговой жидкости из спинномозгового канала после прокола мягких тканей спины, связок позвоночника и оболочек спинного мозга на уровне поясничного отдела позвоночника специальной иглой.
.jpeg) ИЗОБРАЖЕНИЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Через несколько месяцев, проведенных в госпитале Дели, его перевезли в Москву в Кремлевку. А потом в санаторий на реабилитацию.
Но почему маму не вызывали? Издержки нашего советского строя? Но в санаторий она, кажется, летала… Думаю, что от мамы скрывали правду. В Дели по известным причинам ее не вызывали, а в Москву, наверное, она доверилась врачам и осталась с нами, маленькими, скорее, ей не договаривали всю правду. Но звонки были, и папа очень коротко с ней общался.
Афзалу папа как-то рассказал о том, как он в это тяжелое время болезни мучительно копался в дебрях своей утраченной памяти. В кремлевской больнице его навещали друзья по перу, но он мало кого узнавал. Не узнал близкого друга, дядю Мирзо Турсун-заде. Врачи пытались разбудить его память эпизодами из его жизни, показывали ему его книги, читали его стихи. Он молчал. Заррине он позже рассказал, как работал над собой, сначала сам себе шепотом собирал слова по слогам, пытался заговорить. Больше всего тогда папу пугало то, что он утратил дар писать стихи!
Он прекрасно помнил август 1929 года — одно из ярчайших воспоминаний — событие, которое стало вектором в его будущее, определило всю его дальнейшую жизнь!
В августе 1929 года состоялся Всесоюзный слет пионеров в Москве. Папа был в числе 7000 избранных на этот форум молодых делегатов со всего СССР. Это было первое знакомство с Москвой. Потом папа часто ездил в столицу нашей родины: на различные съезды, пленумы, декады, встречи с писателями разных стран и т.д. Он очень любил Москву и знал ее хорошо, но жить там в свое время отказался, считал, что только родная земля врастает корнями в сердце поэта и питает его творчество.
Началом своего творческого пути в поэзию папа считал именно тот день. Молодой Миршакар и до этого писал для себя стихи, но только 25 августа 1929 года, когда на закрытии Всесоюзного слета перед пионерами выступил гость форума — Владимир Маяковский и прочитал с трибуны стадиона «Динамо» только что написанное стихотворение «Песня-молния», он решил стать поэтом окончательно.
 ИЗОБРАЖЕНИЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Высокий, статный, богатырского телосложения Маяковский покорил папу силой и мощью своего темперамента, умением увлечь своим творением огромную аудиторию. Молодой Мирсаид Миршакар твердо решил для себя: буду поэтом и, как Маяковский буду своими стихами зажигать сердца миллионов!
«Человек столько живет, сколько его помнят»
Передо мной письмо, написанное мне, девятилетней, и оно требует ответа. Такое маленькое, немногословное, а сколько вопросов и недосказанного! Остается только домысливать самой. Думаю, все же у папы тогда случилась диабетическая кома, о которой никто и не подозревал, так как диабет в медкарте отца прописался позже.
В результате падения папа потерял сознание и получил сильный ушиб головы. Отсюда все последствия и длительность лечения. Но все это — мои предположения и догадки.
К счастью, все обошлось, но что это стоило нам, семье, прожившей без него год и чем это явилось для самого Миршакара — мужа, отца, поэта и гражданина своей страны!
 ИЗОБРАЖЕНИЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
С возрастом, когда взрослеешь и смотришь на жизнь с высоты возраста родителей, начинаешь понимать их, в чем-то оправдываешь их, чем-то, чего раньше не понимал и не принимал в их жизни и поступках, начинаешь восхищаться, за что-то благодаришь, а за что-то все еще теплится обида и тихонечко периодически причиняет боль…
Лично меня не перестает удивлять присущая тогда обоим моим родителям некоторая скрытность. Или так было принято в системе воспитания Советов — не открываться детям, скрывать какие-то моменты, что-то глубоко личное, взрослое прятать далеко.
А сегодня уже столько лет без них, и с каждым годом возникают все новые вопросы. Думаю, они нас оберегали от неприятностей, от лишних волнений. Жалоб на здоровье или каких-то бытовых проблем мы никогда не слышала ни от мамы, ни от папы! Хотя было не без этого в их жизни.
… Образ папы у нас тесно связан с его кабинетом. Кабинетный стол, заваленный в часы работы бумагами, стеллажи с книгами вдоль всего периметра кабинета, большой старинный книжный шкаф, фигура отца, слегка пригнувшаяся, непременно под тихо звучащую музыку из радиосети стремительно выводящая авторучкой с золотым пером на бумаге персидской вязью, а иногда на пишущей машинке осенившую поэта рифму – эта картина крепко затаилась в одном из уголков моей памяти и часто тревожит и волнует мое воображение.
Кабинет отца был для нас настоящим храмом-святилищем со своим установленным порядком, со своим амвоном, со своим алтарем, со своими нишами.
Окна кабинета выходили на восточную часть двора, каким-то странным образом ничем не загруженную и сохраняющую тишину в этой стороне дома. Все располагало к тихой плодотворной работе.
Все шло по размеченному руслу: папа часами сидел за «пропитанным его строфой» столом, читал, писал, творил, а мы, дети, тихо, бесшумно заходили, находили в огромном количестве книг нужную и занимались.
А иногда сюда, в этот «храм», заходили друзья, журналисты, работники кино и телевидения, школьники со всей республики, зарубежные гости, наши друзья. И всегда почему-то именно в этом кабинете все встречи и общение приобретали какой-то особенный, магический, обрядовый окрас.
Папа мог с утра до вечера сидеть за своим письменным столом и чем-то заниматься: писать что-то, возможно, письма или какое-нибудь выступление или тезисы к ним; читать свежие газеты или какую-нибудь книгу — на русском, на таджикском или на персидском языках; но чаще он сидел перед листом бумаги и что-то сочинял.
В такие моменты трудно было отвлечь его, он был в другой субстанции, в ином мире и другом измерении, его взгляд и мысль блуждали где-то с героями будущего произведения между строф, метафор и сравнений, которые потом ложились на бумагу персидской графикой.
.jpeg) ИЗОБРАЖЕНИЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
В такие минуты мы старались не мешать ему, но что-то всегда всех тянуло туда и детей, и взрослых!
А когда появились наши дети… Дети — есть дети, то пробегут на веранду — путь туда лежал через кабинет, то просто, якобы, невзначай заскочат к деду, иногда усаживались в кресла и тихо следили за ним. Так же и взрослые — всех тянуло в папин кабинет и именно тогда, когда он там был в работе. И что удивительно, ничто его в эти минуты вдохновения не отвлекало — ни шум детей, ни присутствие кого-либо.
Но как только мысль была записана, он возвращался в реальность. И тогда своим традиционным окриком: «Прекратить!» пытался перекричать чрезмерно шумных внуков, или, загладив руками свой редкий волос назад и откинувшись бодро в кресле, начинал вести беседу с присутствующими, интересоваться их жизнью, будь то дети или взрослые. И все ждали именно этого: поговорить с ним!
Помню, моя свекровь, посещая дом моих родителей, обязательно в какой-то момент говорила: «Пойду к Мирсаиду Миршакаровичу!». Тихо заходила в кабинет, садилась в кресло и ждала именно этой минуты, минуты «возвращения» поэта в реальность. И тогда начиналась долгая приятная беседа.
Воспоминания просто захлестывают душу и просятся наружу! Даже это маленькое письмо от папы мне 1958 года подняло в душе такую бурю!
 ИЗОБРАЖЕНИЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
В народе говорят: «Дуб столько живет, столько и растет, а человек столько живет, сколько его помнят».
Как-то я провожала подругу с Казанского вокзала Москвы поездом до Душанбе. Поезд тронулся, я с некоторой грустью пошла по перрону к выходу и вдруг слышу, как из окошка одного из вагонов отъезжающего поезда русский военный (видимо, узнал меня?!) кричит мне вдогонку:
Мо аз Помир омадем!
Москва равон шудем!…
А из соседнего вагона кто-то подхватил:
Хобидем андар вагон,
Бедор шудем дар …..
…и поезд, набирая скорость, скрылся. Свою порцию адреналина я тогда получила надолго!
Человеческая память обладает удивительной способностью: со временем отметать все ненужное; а Миршакара – поэта, Миршакара — человека, отца, деда и прадеда помнят, чтут и любят не только на Родине, но и далеко за ее пределами.
Читайте нас в Telegram, Facebook, Instagram, Яндекс.Дзен, OK и ВК.